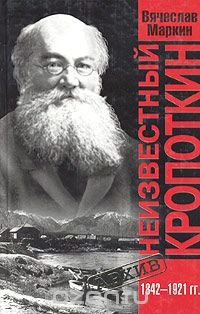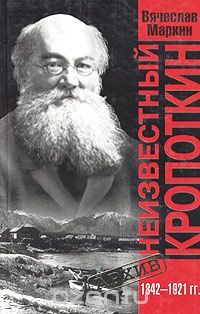Она все же улыбнулась.
— Туфли снимать? — спросила с фальшивой послушностью.
— Да, — глухо ответил Он.
Она сняла и прошла быстро в комнату, сев сразу на диван. После улицы пол показался ей холодным, она поджала одну ногу к другой.
«Как в милиции».
Сейчас, вот сейчас она разденется без лишних слов, чтобы Он сделал с ней то, что хочет, чтобы забыть, забыться, что теперь один, один. Фудзи, почему так жестока жизнь и так горька и сладка подмена…
Он посмотрел на девочку и спросил:
— Как тебя зовут?
— Оля, — оживилась она. — А мы будем пить вино?
— Вино. — Он горько усмехнулся.
— Да?
Она вдруг весело засмеялась.
«Очевидно, внешне я все же не так ужасен», — усмехнулся и Он.
— А как тебя? — спросила она.
— Что?
— Зовут?
Он налил божоле, красное, которое привез из Брюсселя.
— Олег.
— За любовь, Олег, — усмехнулась она, поднимая бокал, и Он снова заметил в ее взгляде то же дерзкое выражение.
Они чокнулись и выпили.
— Ну, ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан, — сказал Он, поставив бокал обратно. — Прими-ка душ иди, а я потом сам тебе принесу полотенце.
Она медлила.
— А еще? — вдруг подняла бокал.
Он пожал плечами и опять разлил божоле. Она выпила и показала мизинцем на книги:
— Ты математик?
— Естествоиспытатель, — усмехнулся Он.
«Когда-то мне казалось, что это просто, что это слишком просто: возвратно-поступательное движение шатуна, который входит и выходит — из хорошо смазанной муфты, — когда-то я все мечтал изучить квантовую механику».
— А это что? — кивнула она на хромированный блестящий предмет.
— Собор Сан-Мишель.
Он посмотрел на макет.
— Ты там был?
Белый собор Сан-Мишель, где Он сидел еще вчера, слушая, как настраивают орган. В соборе было холодно. Мастер играл, а ученица спускалась вниз и слушала, а потом что-то громко говорила мастеру, которого там, на высоте органа, не было видно, а Он очень хотел увидеть его лицо. В соборе было холодно, а в комнате на одной из улиц вблизи вокзала Гар дю Норд было жарко из-за двух электрокаминов — каждый по тысяче ватт, один стоял у широкого окна, которое служило витриной и где, расставив ноги в черных чулках, сидела проститутка…
— В ванную иди, — глухо приказал он.
Она фыркнула и поднялась, дрогнув всем телом так, что его внезапно и остро пронзило желание.
— Или нет… Сюда.
Он грубо схватил ее и завалил на диван, одной рукой держа за шею, а другой нащупывая узкие трусики. Она не сопротивлялась и даже изогнулась в спине, помогая ему.
— Только не рви белье.
— Я не рву.
Он повернул ее голову, поймал губы, рот, расстегнул брюки, закрывая глаза и вздрагивая от горячего прикосновения ее пизды.
Делать, делать, делать, ибо это делается. Надевать, надевать, надевать, ибо это снимается и надевается опять. До конца, до конца, до самого конца…
— Е-е-е, — попробовала она вырваться.
— Потерпи! — рот ей зажал.
Как стеклодув, из осколков разбитого зеркала выплавлял Он свой мучительный шар. Огненный! Он приподнялся и откинулся наискось, дернулся и обмяк.
— Как от удара саблей, — усмехнулась под ним блядь.
…белый собор Сан-Мишель и эти низкие бельгийские стулья с высокими спинками-полочками. Молящиеся вставали и шелестели листами псалмов. Если откинуть голову, думал Он, голова ляжет точно на полочку, и это будет как гильотина. Он знал, что Бог есть и что Бог есть любовь.
Она внезапно выскользнула и, отодвинувшись, стала разглядывать его лицо.
— Ты такой жадный. У тебя что, давно не было?
— Чего?
— Любви.
— Любви?!
Он засмеялся громко, мучительно, закашлял, словно казня и еще раз казня.
— Что с тобой? — Она испуганно отодвинулась. — Ты что, с ума сошел?
Он поднял голову и посмотрел на эту маленькую, голую. Она отпрыгнула и, поджав ноги, села на ягодицы, ее колени были разведены, и лоно — маленькое, аккуратное…
«Почему у них там ничего нет?»
Он вспомнил вдруг, как украл у Фудзи ее старый читательский билет: там была ее фотография.
— Что ты так смотришь? — испуганно сказала девочка. — Налей мне еще вина.
Она взяла со столика у дивана пустой бокал и играючи протянула к нему. Он нехотя поднялся, облапив по дороге ее маленькую грудь, ткнулся носом в шею, потом налил — все же сначала себе и только потом ей.
— У тебя есть кто-то постоянный? — спросил.
Подумал: «Что за дурацкий вопрос…»
— У меня есть муж, — усмехнулась она, глядя на него поверх бокала.
— И кто он?
— Крупье.
— Крупье?
Он с удивлением посмотрел на нее:
— Так значит, ты богата?
— Да, — она зажигательно засмеялась и поджала плечо так, что Он снова услышал в себе, как шевельнулось это — слепое, мучительное.
— Он что, старик?
— Он такой, как ты.
— Ты… любишь его?
— Да-а!
Она звонко засмеялась, глядя с насмешкой на него.
— Тогда зачем ты делаешь это?
— Нравится, — ответила вдруг бесстыдно и дерзко.
И, не отводя взгляда, еще слегка раздвинула колени.
— Ты просто блядь, — сказал он, чувствуя снова, как разгорается и разгорается кровь.
— Это правда, — ответила она с какой-то ослепительной ненавистью, прекрасной ненавистью, словно освобождаясь от чего-то.
Он взял медленно из ее рук бокал и отставил. А потом тяжело, жадно навалился, подминая под себя. Подрагивая в его объятиях, она сначала нарочно уклонялась, распаляя и распаляя еще, и вдруг замерла. Он начал нежно и сладко.
«Зачем, зачем такое наслаждение, Господи?!»
Он приподнялся на руках, чтобы взглянуть под себя, чтобы увидеть эту последнюю правду: как там, под ним, его тело входит в ее. Она усмехнулась, безжизненно и глупо скосила глаза, открыла рот и перестала дышать.
«Играешь…» — Он вдруг разозлился и теперь продолжал, двигаясь все резче и резче.
Резче, еще и еще, ловя себя на просыпающейся жестокости. Она задышала, нелепо изображая теперь предсмертные судороги.
«За что, Фудзи?! За что?!» — вдруг ощутил Он в себе горечь слез.
Его рука скользнула вдоль тоненькой ключицы и неумолимо легла на горло этой маленькой кривляке.
— Кричи! — сжал вдруг со всей силы нежную шею.
Она захрипела, испуганно тараща глаза.
— Ты ш-што, дура-а-ахк?
Забилась, толкая коленкой, хотела вырваться. Но Он навалился крепко и сжал еще, не отрывая взгляда от ее перекошенного от ужаса лица.
— Па-шэ-му? — прохрипела она с каким-то страшным детским удивлением.
— Потому что любовь смертельна, — тихо ответил Он.
Валерия Нарбикова
Три истории
История первая «Любовь»
Это была любовь с первого занятия любовью, как с первого взгляда.
Она знала, куда шла, — к поэту.
Он не знал, кто к нему придет.
Знал, что она пишет стихи, рисует, уже второй раз замужем — в двадцать лет, но, как выглядит, абсолютно не представлял.
И когда он открыл: небритый, даже не плейбой, совсем какой-то обычный мужик стоял перед ней.
Слесарь, что ли?
Она даже осмотрелась, нет ли здесь поэта?
Но, кроме э т о г о, здесь не было никого.
Только он, слесарь, мужик, — если надо, кран вправит и кого угодно на скаку остановит.
И он был один.
И почему-то, увидя ее, при своей небритой щетине, при своем некостюме, в своих, так сказать, засранных апартаментах, он решил ее поцеловать.
Он был — еще раз — небрит и, как ему казалась, нетрезв.
И он упал.
В самом деле, он упал на колени. И он поцеловал ее не в губы, а туда.
В общем, это она скорее даже поняла, что «слесарь» целует ее туда, а он данный факт даже и не отметил, потому что никакого значения для него не имело, целует ли он ее в губы или еще куда.
Все эти любовники — с их объяснениями до трех часов ночи — ничего не стоят по сравнению с тишиной. Только тишина и линия поведения. То есть такая линия, которая проведена одной линией. В этом есть смысл. Определенный. И даже неопределенный — тоже есть.
А после этого он читал стихи. А потом она — одно. Из его трех одно было про туман, что вот как будто есть пейзаж, а потом наползает туман. И вполне реальными остаются только чьи-то богом забытые ботинки. Почему-то ей понравились эти ботинки, забытые богом. А у нее в стихах ему понравилась рифма: лысый — писал.
Но в стихах «писал» совсем не этот лысый, а другой герой. Зато рифма относилась к лысому. А герой оставался за пределами рифмы. А лысый и вовсе оставался за пределами стихотворения. Потому что стихотворение было про того, кто писал. Но если вдуматься, оно было про ватку, которая кружилась между рам от сквозняка.
А потом он пошел ее провожать. И когда они оказались на улице, до него дошло, что впервые в жизни, видя женщину в первый раз, он сразу поцеловал ее в пизду. «В губы не мог, был нетрезв», — подумал он. Но именно в этот день он был и трезв, и в губы мог бы. «Опьянел, — подумал, — когда ее увидел». А она подумала, что это был не разврат. С кем-нибудь другим это был бы разврат, а с ним — нет. Потому что он сделал это так, как будто утолил жажду.
![Александр Кудрявцев - Я в Лиссабоне. Не одна[сборник]](https://cdn.my-library.info/books/113008/113008.jpg)